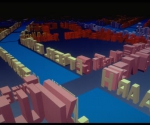Специальным гостем прошедшего на «Винзаводе» медиафестиваля «Платформа» стал Джеффри Шоу – один из основоположников медиа-арта, едва ли не первым начавший использовать в искусстве компьютерные технологии. Еще в восьмидесятые он предлагал зрителям совершать экскурсии по виртуальным мирам в реальном пространстве. Tго инсталляция «The Legible City» (1989) – возможно, единственное произведение цифрового искусства, которое можно назвать хрестоматийным. В семидесятые художник также сотрудничал с рок-музыкантами, именно он сделал знаменитую летающую свинью для шоу Pink Floyd «Animals» в лондонском Battercea Park. Джеффри Шоу приехал в Москву, чтобы принять участие в панельной дискуссии «Трансдисциплинарное образование», организованной в рамках медиафестиваля. С художником поговорила ИРИНА КУЛИК.
– Вы начинали еще в середине шестидесятых годов. Что тогда подразумевалось под «новыми медиа», какие именно технические средства вы тогда использовали?
– Новые медиа в то время были связаны, конечно, с видео-артом, но также и с электронной музыкой. Многие приходили в искусство новых медиа не из визуальных искусств, но из музыки. Еще одной важной традицией было кинетическое искусство, научившее художников работать с электрическими и механическими структурами. В то время художники много работали со светом. Также следует признать роль перформанса как жанра, который позволил задействовать множество новых материалов и опций.
– Некоторые ваши проекты шестидесятых, в которых вы использовали в качестве экрана мягкие надувные структуры и полупрозрачные мембраны, выглядят очень физиологично. Один из них так и назывался – «Corpocinema». Казалось бы, телесность – это антитеза компьютерному искусству, с его уходом в имматериальные виртуальные пространства.
– То, чем я занимаюсь в новых медиа – это как раз стратегии воплощения, поиск точек соединения виртуального мира и реальности события, в которое зритель вовлечен физически. Показателен в этом смысле проект «ConFIGURING the CAVE», где зрители могли взаимодействовать с виртуальным пространством, манипулируя деревянным манекеном в человеческий рост, прикасаясь к нему. При нынешнем развитии технологий наше физическое присутствие нужно и возможно далеко не всегда, но, чтобы взаимодействовать с виртуальным пространством, нам нужно суррогатное тело, спецэффект, мост между нашей реальностью и киберпространством. Ведь сколь бы нематериальным оно ни было, мы не можем мыслить его вне категорий физического, привязанного к нашему телу пространства, мы не можем изгнать эти представления из нашего сознания.

Джеффри Шоу. The Legible City. 1989 © jeffrey-shaw.net
– Занимались ли вы чистым нет-артом, искусством, существующим только в интернете?
– Нет, никогда. То есть мне очень нравится идея нет-арта, идея глобальной дистрибуции искусства, это замечательный способ не зависеть от музеев и галерей, найти новую аудиторию и новый способ общения с ней. В шестидесятые годы я примерно из тех же соображений занимался паблик-артом, делал проекты на улице. Мне нравится утопический посыл интернета, но сетевое искусство очень ограничено в своих технических и художественных средствах, в том, какой опыт оно может дать зрителю. Та же проблема существует с видеоартом, которым я тоже в чистом виде никогда не занимался. Делать искусство, ограниченное форматом телеэкрана – это как-то очень некомфортно. К тому же я большой поклонник кино, я люблю смотреть фильмы в кинотеатрах, и в своих работах иду скорее о кинематографа. В шестидесятые, еще до появления видеоарта, новые медиа начинались с того, что называлось «расширенным кино» – именно этим я и занимаюсь. Для меня суть этого нового искусства – интерактивность, но интерактивность публичная, опыт, который мы можем разделить с другими зрителями в реальном пространстве.
Старые мастера, живописцы ведь тоже обращались не только к зрению или воображению публики, но к их телам. Нужно не просто увидеть картину – нужно физически оказаться перед ней. Самый яркий пример этого – барокко, когда драматургия живописи включает не просто сюжет картины, но и архитектуру того помещения, для которого она сделана.
– Да, вы же обращались к искусству барокко в некоторых ваших работах, например, в «Heaven Gate».
– Барокко ведь тоже стремилось выйти в виртуальное пространство – через скачки от живописи к архитектуре и скульптуре. Оно пыталось перейти границу между видами искусства, а вернее, умело работать как раз в зазорах, разделяющих эти виды искусства. Барокко стремилось дать зрителю своего рода мистический опыт, показать, как преодолеть пределы материального мира, и этим оно близко искусству новых медиа. Как и своим интересом к trompe l’œil, обманкам.
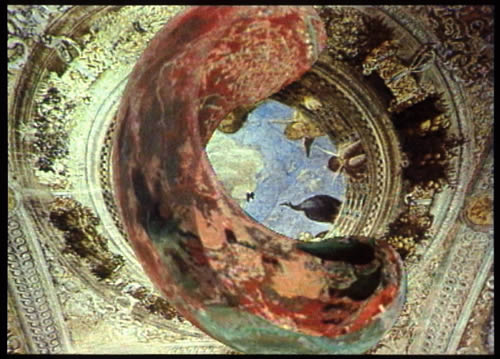
Джеффри Шоу. Heavens Gate. 1987 © jeffrey-shaw.net
– В семидесятые годы вы работали с рок-группами…
– Это тоже были поиски нового контекста, в котором могло бы существовать искусство новых медиа, нового взаимодействия со зрителями, своего рода паблик-арт. И, конечно, хотелось поработать с той энергией, тем драйвом, который тогда был в роке. На самом деле, я не так уж и много работал с рок-музыкантами. Работа для Pink Floyd была просто техническим заданием. Поскольку я создавал множество надувных структур и достиг в этом определенного мастерства, они обратились именно ко мне, когда захотели, чтобы в их шоу «Animals» была летающая надувная свинья — образ этот придумал не я, его предложила группа. А вот то, что мы делали с Genesis в их шоу 1975 года
«The Lamb Lies Down on Broadway», было действительно очень важной работой, продолжением тех поисков, которые занимали меня в то время. Питер Гэбриел был одним из первых, кто захотел ввести в рок-шоу визуальный нарратив. Тогда мы впервые придумали такого рода шоу: на сцене была группа, а за ней на три экрана проецировались изображения, в очень свободной ассоциативной манере рассказывавшие сюжет альбома. В то время мы только начинали работать с панорамными проекциями, и сразу на нескольких экранах в требуемом масштабе можно было использовать только слайды. Нам впервые пришлось применить компьютерное программирование, чтобы обеспечить нужную последовательность этих проекций. Тогда еще использовались перфокарты – у нас были металлические ленты с дырочками, кодировавшие порядок смены слайдов. А еще в то время мы увлекались лазерными лучами. Из лазерных лучей можно было создавать нечто вроде очень масштабной, но имматериальной скульптуры. В то же время я искал какую-то возможность физического включения человека в эти световые структуры. И у Гэбриела в руках было нечто вроде лазерного меча, которым он размахивал на сцене…
– Как в «Звездных войнах», которые были сняты после вашего шоу?
– Да, именно. В кино это был именно меч определенной длины, а у нас был бесконечный луч.
– Pink Floyd и Genesis – ваши любимые группы?
- Вовсе нет. То есть Pink Floyd, пожалуй, да, я был их фэном, ходил на множество их концертов. А вот Genesis, при всем моем уважении к Питеру Гэбриелу, а он очень яркий и новаторский музыкант, – герой не моего романа. Я люблю самый что ни на есть «правоверный» рок. Если бы меня спросили, с какой группой я бы хотел работать, я бы выбрал Led Zeppelin.

Джеффри Шоу. ConFIGURING the CAVE. 1996 © jeffrey-shaw.net
А кто вообще начал сопровождать рок-концерты световыми шоу, проекциями и прочими спецэффектами?
– Не знаю, но к концу шестидесятых это была уже устоявшаяся традиция. Правда, спецэффекты были простейшие. Любимым приемом был прожектор, на который ставилась линза, заполненная цветной жидкостью, – это создавало такие психоделические пузыри и разводы на экране. Тогда же в Лондоне один художник – я забыл его имя – устроил шоу, заполнив прямо на сцене такую линзу своими телесными жидкостями: кровью, мочой и спермой.
– Та связь между новыми медиа и психоделической культурой, которая часто обозначается в научной фантастике, действительно существует?
– Психоделическая составляющая есть в культуре любой эпохи, не только в нашей, хотя, конечно, у каждого времени свои наркотики и свои ожидания от психоделического опыта. Лично я могу сказать, что скучаю по нашей публике 1960–70-х, которая была вечно обдолбанной и потому воспринимала все наши изыскания с некритическим энтузиазмом. Еще одна составляющая новых медиа, столь же вечная, как и психоделика, – это эзотерика. В моих работах эзотерические элементы тоже есть, я не боюсь включать их в искусство, хотя в этой области я, конечно, всего лишь любитель…
– Какие эзотерические традиции вас интересуют?
– Меня интересуют старинная каббалистическая астрономия и астрология, которая в созвездиях предлагала видеть не изображения, но надписи. Астрологические карты соединяли звезды не в фигуры, но в буквы, небо читалось как текст. Моя работа «The Legible City» – о похожей взаимозаменяемости образов и слов: там весь городской ландшафт превращается в текст. Это также имеет отношение к визуальной поэзии, к традиции объединения УЛИПО, которая для меня очень важна, как и другие эксперименты модернистской литературы, связанные с интерактивным измерением текста. Еще одно мое произведение, отсылающее к каббалистической традиции – это «Place: the user’s manuаl». Она основана на панорамных фотографиях, которые проецируются на цилиндрические экраны, которые расположены в порядке, повторяющем каббалистическое Древо жизни. Я специально консультировался со специалистом по этому вопросу, каббалистом из Амстердама, и он посоветовал мне, какие проекции в каком месте нужно разместить.

Джеффри Шоу. Corpocinema. 1967 © jeffrey-shaw.net
– Какие самые значительные технические революции в искусстве случились на вашей памяти?
– В основе всего искусства новых медиа лежит, разумеется, компьютер. Он стал новым посредником между художником и произведением, которое тот создает. Это куда фундаментальнее, чем камера. У компьютера есть гибкость, многоликость, которой не было ни у одного орудия до него. Он – не предмет, но среда для создания программного обеспечения. Все остальное по сравнению с ним кажется довольно-таки жалким. Камера, экран, проектор – без всего этого искусство новых медиа вроде бы немыслимо, но все это можно заменить, да и постоянно заменяется, какими-то другими, новейшими устройствами.
– Чем занимается Центр исследования интерактивного кино в Сиднее, со-основателем и руководителем которого вы являетесь?
– У наших исследований два аспекта. Первый – это природа интерактивного нарратива, мы ведь все еще не понимаем, как он устроен. И второй – поиски того, как физически включить зрителя в пространство фильма. 3D – неплохая попытка в этом направлении и, возможно, важный шаг в истории визуального искусства, которую можно рассказать как историю борьбы с поверхностью репрезентации, которая и разделяет реальный и изображенный мир. Чтобы победить поверхность, изобреталось множество трюков, начиная с перспективы, или наоборот, как в модернизме, живопись заявляла, что она – о поверхности и ни о чем больше. 3D – это всего лишь трюк, оптическая иллюзия, поверхность есть, но ее не видно. Следующим шагом будет создание изображения, которое действительно может находиться между тобой и бесконечностью.
– Есть ли проекты, которые вы хотели бы осуществить, но для которых еще нет технических возможностей?
– Как художник я никогда не придумывал того, чего не мог сделать – это было бы каким- то извращенным способом тратить время и силы. Новые идеи приходят не тогда, когда думаешь о неосуществимых проектах, но тогда, когда ищешь способы преодолеть ограничения существующих технологий.
Вопросы задавала Ирина Кулик